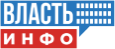СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ НА КУБАНИ ЛЕТОМ 1920 ГОДА (НА МАТЕРИАЛАХ СТАНИЦЫ СЕВЕРСКОЙ)
- Подробности
- Создано: 17.03.2025 11:08
Статья посвящена рассмотрению деятельности станичного Ревкома по пропаганде идеалов советской власти с целью укрепления её авторитета и влияния среди населения станицы в условиях продолжающейся Гражданской войны. В связи с этим, обострилось противостояние внутри станичного Ревкома, из которого, с применением административного ресурса со стороны вышестоящих органов государственной власти, были удалены его члены, не в полной мере лояльные существующей власти или принадлежащие к социально чуждым элементам. Одновременно, станичными властями была начата работа по тщательному учету всего станичного земельного фонда с целью его дальнейшего общего передела на новых принципах социальной справедливости, которые настойчиво проводили в жизнь органы советской власти. Наряду с этим, была проведена реквизиция крупных табачных плантаций, земельных владений и домовладений наиболее состоятельных жителей станицы, помогавших войскам Белой армии или использовавших наемный труд. Ключевые слова: станица Северская, станичный Ревком, Гражданская война, Красная армия, население станицы. Ненастная весна 1920 г., сменилась дождливым летом. Наступало время сбора урожая, который уже несколько лет проводился в условиях войны при крайнем дефиците рабочих рук. 13 июня 1920 г. на общем собрании жителей станицы было принято решение при уборке урожая в первую очередь обработать поля семей красноармейцев, которых в станице числилось 195 [1], и беднейших станичников. Из состава наиболее авторитетных стариков была сформирована комиссия, которая должна была произвести точный учет наличия продовольствия у жителей станицы и заниматься изъятием излишков хлеба после уборки урожая [2]. Гражданская война продолжалась, и продразверстку никто не отменял. Начавшиеся в начале лета проливные дожди сильно затрудняли организацию уборки урожая. Основное внимание уделялось сбору хлебов и сена. Несмотря на то что были засеяны гораздо меньшие площади, чем до войны, возникли большие проблемы при их уборке из-за недостатка рабочих рук. После проведенного учета выяснилось, 28 что в станице проживало работающих жителей, т.е. в возрасте от 17 до 55 лет – 2 тыс. 963 чел., неработающих в возрасте до 17 лет и свыше 55 лет – 4 тыс. 120 чел. [3]. Станичный Земельный отдел сосредоточил свою деятельность на помощи наиболее бедным станичным семьям. Для этого к уборке привлекались активисты и сочувствовавшие новой власти, что позволило несколько компенсировать недостаток рабочих рук. Остро ощущался и недостаток в сельскохозяйственном инвентаре, но приобрести его не было возможности из-за высокой стоимости [4]. После завершения уборки урожая Земельный отдел произвел тщательный учет, в ходе которого было установлено, что у населения имелось запасов: пшеницы – 32 тыс. 683 пуда, ячменя – 2 тыс. 534 пуда, овса – 1 тыс. 198, кукурузы 4 тыс. 872, проса – 556, сена – 3 тыс. 81, соломы – 3 тыс. 992, половы – 1 тыс. 742 пуда [5]. Между тем, 3 июня 1920 г. началась мобилизация в ряды Красной армии жителей станицы 1900–1901 гг. рождения. Люди устали от войны и явка в военный комиссариат лиц, подлежащих мобилизации, была очень низкой. Из 210 призывников в военкомат явился всего 21 чел., т.е. десятая часть [6]. Некоторые молодые люди, явившиеся в военный комиссариат, при отправке в Екатеринодар сбежали по дороге. 4 июня состоялось общее собрание жителей станицы, перед которыми выступил военный комиссар А.А. Юрин с докладом о результатах мобилизации в Красную армию жителей станицы. В этой связи было принято решение – всех неявившихся по мобилизации считать дезертирами. Кроме того, А.А. Юрин объявил о создании специального отряда, который будет забирать оружие и военное обмундирование у жителей станицы и потребовал в обязательном порядке сдать все оружие [7]. Кроме того, чтобы искоренить уклонение от военной службы ревком и исполком обратились к семьям молодых людей, подлежащих мобилизации с требованием отправить своих сыновей в военный комиссариат, так как продолжалась война с Польшей и Белой армией под командованием Врангеля и по условиям военного времени они могут быть привлечены к ответственности с конфискацией имущества [8]. Летом 1920 г. военно-политическая обстановка на Кубани начала быстро накаляться. Армия генерала П.Н. Врангеля, находящаяся в Крыму, начала готовить крупный десант на Кубань, где сохранилось значительное количество сторонников, готовых поддержать войска Белой армии. Понимая это, командование Красной армии начало перебрасывать войска на побережье Азовского моря, где ожидалась высадка. В связи с этим резко возросла опасность диверсий со стороны бело-зеленых на железной дороге, по которой перебрасывалась основная часть войск. Стали предприниматься срочные меры по усилению охраны полотна железной дороги силами местного населения [9]. 29 Станичный ревком принял решение привлечь к охране железной дороги всех жителей станицы, способных нести охрану, и организовать её на закрепленном участке в круглосуточном режиме. Для этого была проведена перепись населения, за исключением греков, и разработан состав наряда, а также график несения службы по охране полотна железной дороги [10]. Это было тяжелое обременение для жителей станицы, вынужденных отрываться от выполнения полевых работ в самый разгар уборки урожая. Во второй половине июля 1920 г. на станичников была также возложена обязанность по сдаче лошадей и крупного рогатого скота для Красной армии. Понимая, что очередное их изъятие может подорвать личные хозяйства многих семей, за счет которых они выживали, было принято решение не реквизировать, а покупать лошадей и коров [11]. Однако желаемого результата это не принесло, и 17 июля ревкомом было принято решение провести переучет крупного рогатого скота и провести его реквизицию. Станичному продовольственному отделу было поручено провести его забой и сдачу частям Красной армии, проходящим через станицу. Часть мяса была выдана также детскому дому, станичной больнице и некоторым ответственным советским работникам [12]. В связи с обострением военно-политической обстановки продолжались репрессии против «социально чуждых элементов». В частности, был арестован Влас Авксентьевич Малиновский, брат председателя станичного исполкома С.А. Малиновского, которого также арестовали весной 1920 г. В начале июня отец арестованного обратился с ходатайством к общему собранию жителей станицы с ходатайством об освобождении сына, находящегося под арестом. Собрание приняло постановление направить 2 представителей – А. Рыбенцева и А. Руденко – в станицу Крымскую с поручением разобраться в причинах ареста [13].На обсуждение общего собрания жителей станицы было вынесено также и заявление жителя станицы Е. Демиденко о смягчении наказания для его зятя П. Молчанова – бывшего офицера Белой армии, так как он пошел служить по мобилизации и дезертировал во время отступления войск Белой армии через Северскую. Собрание поддержало ходатайство о смягчении наказания [14]. К сожалению, в течение месяца станичным представителям не удалось добиться освобождения В.А. Малиновского. Поэтому 11 июля 1920 г. на общем собрании жителей было принято еще одно обращение с просьбой освободить его. В.А. Малиновский, как и его брат С.А. Малиновский, был одним из наиболее авторитетных жителей Северской. До Первой мировой войны работал станичным учителем, в 1914 г. был мобилизован в действующую армию и воевал до 1918 г. Во время Гражданской войны помогал многим бедным жителям, а при восстановлении советской власти одним из первых поддержал её [15]. 30 Однако данные аргументы действовали слабо, так как органы советской власти стали более жестко относиться к «социально чуждым элементам». 16 июня 1920 г. было проведено совместное заседание ответственных работников 6-го Северского района и северского ревкома под председательством военного комиссара района А.А. Юрина, которое было посвящено вопросам укрепления исполнительской дисциплины в условиях военного времени. Было установлено, что все ответственные работники должны еженедельно докладывать военному комиссару района и председателю ревкома о проведенной работе – в пятницу после 17.00. Был также установлен порядок отчетов за полученные деньги, а за организацию отчетности назначен ответственный – станичный казначей А.Л. Головченко [16]. В июне ревком установил порядок взимания налогов и сборов, поручив организацию данной работы станичному земельному отделу, которым заведовал Михайленко, а с июня 1920 г. – М. Волик. Уполномоченным ревкома по налогам и сборам стал станичный писарь М.А. Кирпенко. Был также назначен заведующий хозяйством ревкома: эти обязанности с 1 июля 1920 г., были возложены на Павла Мироновича Шишку [17], а затем на Антона Моисеевича Люшню [18]. С мая 1920 г., по указанию Отдела управления Кубано Черноморской области от должности председателя ревкома был отстранен С.А. Малиновский, обязанности председателя северского станичного ревкома были временно возложены на комиссара 6-го Северского района А.А. Юрина. После этого в течение мая–июня, фактически, функции ревкома и военного комиссариата были совмещены. 23 июня в должность председателя северского ревкома вступил Алексей Афанасьевич Буряк, которого на данный пост 19 июня 1920 г., рекомендовала станичная партийная ячейка. Это был 30-летний, но уже опытный и убежденный политический боец, член партии большевиков, который до этого служил в Красной армии и был политическим комиссаром различных воинских частей [19]. После этого функции военного комиссариата и станичного ревкома были разделены. В своем рапорте о приеме должности в Екатеринодарский отдел управления он отмечал: «Население станицы к советской власти относится с сочувствием» [20]. Станичный ревком становился основным органом власти в станице, оттеснив на второй план исполком, возглавляемый С.А. Малиновским. В своих действиях власти опирались на партийные организации, которые создавались при наличии членов партии. Подобная ячейка была создана и в станице Северской. 19 июня 1920 г. состоялось первое заседание ячейки, посвященное приему в партию новых членов, которое проводил А.А. Юрин. На этом собрании были приняты из кандидатов в члены РКП(б) Стеблянский и Гузь, еще несколько человек из числа жителей станицы стали кандидатами в члены партии, 31 а член ВКП(б) Гладкий за непосещение партийных собраний был исключен из партии [21]. По-прежнему оставался нерешенным вопрос о подчиненности станичного кожевенного завода. В июне 1920 г. на общем собрании жителей станицы вновь обсуждался вопрос об обеспечении населения обувью. Собрание приняло постановление направить ходатайство в областной Совнархоз о принятии в ведение станичной власти кожевенного завода Г. Стеблянского, чтобы обеспечить население обувью. К сожалению, вопрос о подведомственности завода не решался, поэтому 27 июня жители станицы вновь обратились к областным властям с просьбой разрешить заводу Г. Стеблянского принимать заказы на изготовлении простой крестьянской обуви от жителей станицы, иначе на зиму все станичное население может остаться без обуви. Все жители привыкли заказывать обувь на этом заводе, который работал в станице уже более 40 лет. К тому же здесь делали обувь для станиц Азовской, Убинской и других соседних населенных пунктов [22]. Жители станицы настаивали на том, чтобы завод был передан в ведение местных органов власти [23]. Однако вопрос о передаче кожевенного завода в ведение станичного Продовольственного отдела оставался открытым, а положение с обувью в станице становилось все хуже. Поэтому во второй половине июля на станичном собрании в очередной раз возвратились к данной проблеме. Выборные делегаты от станицы М. Корниенко и Е. Христов были направлены для ускорения решения данного вопроса в Екатеринодар с официальным ходатайством о предоставлении станичным органам власти права выделки кож для нужд населения станицы [24]. Но летом 1920 г. данный вопрос решить не удалось. Удалось добиться положительных сдвигов в отношении станичного Детского приюта. В соответствии с распоряжением Кубано-Черноморского ревкома № 6755 с 10 июня 1920 г. он передавался в ведение местного Отдела народного образования, который сразу поставил вопрос о необходимости выделения нового здания для размещения детей [25]. Сироты северского приюта плохо питались, в стесненных и неприспособленных помещениях невозможно было обеспечить надлежащие условия для поддержания на необходимом уровне всех правил гигиены. Поэтому дети часто болели заразными болезнями, а изолировать их от здоровых детей возможности не было. В июле 1920 г. станичные власти приняли решение о выделении отдельной комнаты в больнице для детей, болеющих заразными болезнями. В этой связи следует отметить, что само здание станичной больницы находилось в плачевном состоянии, и необходимо было найти новое [26]. В июле 1920 г. на совместном заседании ответственных работников станичного ревкома и заведующих подотделами 32 исполкома было принято принципиальное решение о переводе больницы в другое здание, а если такового найти не удастся, разместить больницу в здании ревкома. Было также принято решение о выделении отдельного помещения в больнице для размещения детей станичного Детского дома, больных оспой [27]. Решение по переводу больницы в здание ревкома начали реализовывать в первой половине июля 1920 г. Одновременно ревкомовские работники стали переезжать в здание больницы. Однако во второй половине июля это решение было неожиданно изменено и под больницу был отдан дом Е. Карахановой [28]. Но и это решение оказалось не окончательным, и 17 июля станичные власти обратились в Екатеринодарский отдел здравоохранения с ходатайством разместить Детский дом в экономии одного из крупнейших станичных табачных плантаторов Д.Г. Азвездопуло [29]. В августе 1920 г. вместительность Детского дома была увеличена с 25 до 60 чел. По этой причине было объявлено о приеме сирот, после чего заявления подали 145 чел. Для их рассмотрения была образована комиссия из 4 чел. и по её решению в Детский дом было принято еще 20 детей. В связи с увеличением количества сирот было принято решение об организации при Детском доме небольшой фермы из 4 коров для обеспечения молоком детей-сирот, а также больных и раненых, проходящих лечение в станичной больнице [30]. В это же время ревком и исполком пошли навстречу пожеланиям тружеников станицы и приняли совместное решение о создании первых станичных яслей. Для этого был реквизирован дом Е. Карахановой, а все необходимое имущество для яслей должен был доставить станичный Отдел здравоохранения. Кроме того, было принято решение о выделении 20 тыс. р. для выдачи единовременных социальных пособий нуждающимся станичным семьям. В связи с важностью данной работы был образован станичный Отдел социального обеспечения, временным заведующим которого был назначен А.Л. Головченко, а его заместителем С.А. Овчаренко. Ревкомом также была назначена комиссия для оказания помощи жертвам войны, в состав которой были включены станичные учителя, свободные от занятий [31]. К вопросу об открытии в станице яслей (дома грудного ребенка) станичные власти возвратились 27 июня 1920 г. На общем собрании жителей был заслушан доклад руководителя станичного Отдела здравоохранения об открытии яслей, но поддержки у мужского населения станицы это важное начинание не нашло. Подавляющее большинство станичных мужчин придерживались патриархальных взглядов и при голосовании решения об открытии станичных яслей принято не было, вопрос был отложен и надолго [32]. В неудовлетворительном состоянии оставались две станичные мельницы, работа которых имела исключительно важное значение для 33 жителей станицы. Одна из них находилась на ремонте, а другая нуждалась в срочном ремонте. Вследствие этого ревком принял решение не принимать заказы на помол от жителей соседних станиц: Афипской, Дербентской, Ильской, Львовской и других близлежащих населенных пунктов. Подобный запрет был введен для того, чтобы дать возможность северцам в течение июня 1920 г. смолоть на работающей мельнице по 2 пуда зерна [33]. В июле 1920 г. была установлена фиксированная цена за помол зерна на работающей станичной мельнице Галацана, которая не должна была превышать 15 р. за помол 1 пуда и 4 фунтов зерна [34]. Но это не решало проблемы, необходимо было принимать безотлагательные меры по восстановлению второй станичной мельницы Силина, которая уже длительное время стояла на ремонте, а также бани Галацана. Для обследования их состояния ревком назначил комиссию, в которую вошли С. Овчаренко, Х. Галацан и А. Красников. Она должна была не только четко установить состояние данных важнейших объектов инфраструктуры станицы, но и составить акт, где определить средства и время, необходимые для их ремонта [35]. Постепенно начал разворачивать работу станичный Отдел здравоохранения, главой которого была назначена врач лазарета Иноземцева. Был также утвержден и штат медицинских работников станицы. Кроме врача в его состав входили 3 фельдшера, акушерка, 2 сиделки и кухарка [36]. Отдел здравоохранения обратился с ходатайством в Екатеринодарский отдел здравоохранения о назначении в Северскую зубного врача и рекомендовал назначить на эту должность в станичную больницу Людмилу Николаевну Иванову Ильину [37]. Большинство станичных семей имело в своем личном хозяйстве различный скот и птицу. Крупный рогатый скот и домашняя птица плохо питались, а стало быть, часто болели. Ветеринарная служба в станице фактически отсутствовала, поэтому падеж скота и птицы был высоким. По этой причине станичные власти официально обратились в вышестоящие органы власти с ходатайством о назначении в Северскую ветеринарного врача. До его прибытия вся работа по ветеринарным вопросам была возложена на фельдшера Андрея Рыбенцева [38]. В начале лета Земельный отдел начал организовывать работу по учету всей земельной собственности станицы, чтобы осенью начать общий передел земли. В июне 1920 г. в качестве первоочередной задачи ревком поручил отделу точно учесть все сенокосные луга, оказавшиеся свободными, и выделить их женам красноармейцев и семьям жителей, имеющим домашний скот [39]. В конце июня станичные власти начали проводить подготовительные мероприятия по возобновлению работы станичных школ, которые сильно пострадали во время войны и не были готовы к 34 возобновлению учебного процесса 1 сентября. В связи с этим в школы, по старой традиции, были назначены попечители из числа наиболее авторитетных жителей станицы: в 1-е станичное одноклассное училище – Г. Пузанов и Т. Нестеренко, во 2-е училище – Г. Стеблянский и П. Самойленко и в Высшее начальное училище – А. Красников [40]. Они должны были возглавить работу по восстановлению учебно-материальной базы учебных заведений. Продолжалась Гражданская война, поэтому, несмотря на недостаток продовольствия, необходимо было изыскивать его излишки для потребностей Красной армии. В конце июня 1920 г. органы снабжения 9-й армии обязали власти станицы выделить для нужд 25-го армейского госпиталя 40 пудов картофеля. По решению общего собрания его сбор был поручен ревкому на основе добровольных пожертвований. Выдан был также наряд на поставки сена для Красной армии, и власти станицы вынуждены были обязать всех станичников, имеющих земельные наделы, доставить на пункты сдачи по одной копне сена, а те жители, которые не имели земли, должны были приобрести сено за свои деньги [41]. В условиях полуголодной жизни приходилось использовать все доступные местные источники пополнения продовольствия, в том числе и станичные сады. Наиболее крупными из них были сады, ранее принадлежащие известному историку Кубани Фелицыну, крупному владельцу табачных плантаций Азвездопуло и еще одному состоятельному жителю станицы – Виноградову, а также станичным училищам. Для охраны этих садов были наняты сторожи. Бывшие частные фруктовые сады, находящиеся на территории Северской, были переданы Детскому дому и больнице. Садовые участки при станичных училищах остались в их распоряжении. При этом 4 фруктовых дерева специально были выделены учителям П.А. Кузьмину и Е.И. Костомахе для улучшения их питания. Власти обязали всех, кому переданы в ведение сады, устроить сушилки и организовать сбор и сушку фруктов, а часть выручки от их продажи использовать на оплату труда охраны [42]. Станичный Продовольственный отдел провел тщательный учет всех фруктовых деревьев не только в крупных садах, но и на приусадебных участках и даже на всех улицах станицы, чтобы использовать их плоды для продовольственного обеспечения. По итогам проведенного учета оказалось, что летом 1920 г. в Северской было: 1 тыс. 140 яблоневых деревьев, 1 тыс. 107 грушевых, 31 абрикосовое, 1 тыс. 190 сливовых, 31 черешневое, 953 вишневых, 81 алычовое. Продовольственный отдел считал, что сможет получить от данного количества фруктовых деревьев 778 пуд. яблок, 1 тыс. 244 пуд. груш, 12 пуд. абрикос, 1 тыс. 095 пуд. слив, 6 пуд. черешни, 894 пуд. вишен и 59 пуд. алычи [43]. В соответствии с решением ревкома от 25 июня была назначена комиссия для распределения 35 фруктов после сбора урожая между учащимися школ, Детским домом и станичной больницей [44]. Во второй половине июля начались сбор и сушка фруктов, которые проходили под контролем станичных властей. Они сразу распределялись между учреждениями станицы. Излишки сухофруктов, собранных на приусадебных участках и улицах станицы, было разрешено реализовывать по твердым ценам, а полученные средства использовать для оплаты труда сборщиков фруктов [45]. Были также учтены и посадки овощей на частных участках станичников. В 1920 г. было посажено: 18 тыс. 251 квадратная сажень картофеля, свеклы – 756 квадратных саженей, помидор – 1 тыс. 119, лука – 484, моркови – 10, гороха – 37, чеснока – 127, фасоли – 724, перца – 50, огурцов – 1 тыс. 788. На этих площадях Продовольственный отдел планировал собрать: картофеля – 7 тыс. 741 пуд., свеклы – 333 пуд., помидоров – 550, лука – 163, моркови – 3, гороха – 12, чеснока – 45, фасоли – 205, перца – 10, огурцов – 748 пуд. [46]. Станичные власти также обратились к многочисленной греческой общине станицы, в составе которой было значительное количество состоятельных людей, с просьбой об оказании материальной помощи. В ходе Первой мировой и Гражданской войн греки не призывались в армию, так как в подавляющем большинстве являлись подданными Турции. В связи с этим греческая община мало пострадала во время войн и являлась наиболее зажиточной частью станичного общества. Для организации сбора средств 11 июля 1920 г. по решению общего собрания жителей станицы была образована комиссия, в которую вошли М. Анданков, А. Лысый и от греческой общины Д. Чинкилиди [47]. Единственным отопительным средством для жителей станицы оставались дрова. В годы Гражданской войны, когда станичная власть часто менялась, станичники привыкли рубить лес бесконтрольно, что заметно сократило и без того небольшие лесные угодья. Своим постановление от 25 июня 1920 г. ревком запретил самовольную порубку леса, за что был установлен штраф в размере 3 тыс. р. с каждой фуры. Если же кто-либо был уличен в неоднократной самовольной порубке, была предусмотрена и уголовная ответственность. Леса действительно осталось мало и разрешение на его порубку выдавалось лишь по особому разрешению станичных властей. Так, например, житель станицы В. Нестеренко обратился в ревком с просьбой разрешить рубку леса на строительство сарая. Ему было разрешено вырубить 12 столбов, 10 окладин и 12 стропил, но на станичном дополнительном Абинском лесном участке, находящемся в 60 км от станицы [48]. Во второй половине июля власти дали разрешение на заготовку дров для отопления жилых помещений зимой. Ответственным за эту 36 работу был назначен станичный земельный отдел, должностные лица которого жестко контролировали вырубку. В первую очередь началась заготовка дров для станичных учреждений и только после этого должны были рубить лес на дрова простые жители [49]. В станице также ощущался острый недостаток различный тканей, которые не поставлялись в станицу со времени Первой мировой войны. Чтобы решить данную проблему, станичный Продовольственный отдел организовал бартерную сделку: по твердым ценам была проведена сдача скота государству и в обмен на это в Северскую было поставлено ограниченное количество тканей [50]. В середине июля 1920 г. под контролем ревкома началось их распределение среди населения с учетом уровня благосостояния и численности семей [51]. Новая власть резко негативно относилась к церкви, поэтому её органы сразу старались искоренить церковное влияние из социальной сферы. Теперь церковные браки не признавались и подлежали регистрации в государственных органах. 3 июля 1920 г. решением ревкома был образован станичный подотдел ЗАГС, для работы в котором были назначены 3 человека: Г. Шаповалов, К. Демиденко и С. Николаенко [52]. Во второй половине июля началась регистрация первых гражданских браков [53]. 5 июля 1920 г. деятельность органов станичной власти была впервые проверена Рабоче-Крестьянской инспекцией (РКИ). Возглавляли проверку контролер РКИ Матвеев и представитель областного профессионального союза рабочих Митин. Была тщательно проверена деятельность всех станичных отделов: земельного, продовольственного, социального обеспечения, здравоохранения и других структур. В качестве общих недостатков отмечалось, что отделы не полностью сформированы и почти все не укомплектованы, документация велась с нарушениями. Имели место и незаконное выделение денег. Например, 4 тыс. 800 руб. были выданы военному комиссару «на пиво» [54]. В итоговом акте проверки особо отмечалось бедственное положение станичной больницы, где больных и раненых кормили плохо. Помещение, где они размещались, было «ниже всякой критики», больные лежали «в развалившихся халупах с разбитыми стеклами». В начале июля было выделено 34 тыс. руб. на ремонт помещений, но этих средств оказалось очень мало. На основании этого был сделан вывод о необходимости выделения другого здания для больницы [55]. После этой проверки в начале августа станичный ревком принял решение о переводе больницы в большой каменный дом бывшего владельца кирпичного завода Я.Д. Мельника. Занимавший его народный судья переводился в здание бывшей больницы, но это был не последний перевод станичной больницы. 37 Амбулаторию разместили в доме бывшего станичного предпринимателя Новикова [56]. В июле 1920 г. начали предприниматься первые шаги по восстановлению станичного хозяйства. В частности, были начаты работы по ремонту пожарного инструмента, побелке домов, починке подвод, линеек, тачанок и конской сбруи [57]. Начался ремонт бани, ранее принадлежавшей владельцу станичной мельницы Галацану, которая становилась общественной, производился также ремонт школьных классов, парт и другого имущества [58]. В начале августа Земельный отдел начал выдавать ордера на проведение сенокоса. Наряду с этим после окончания уборки урожая Продовольственный отдел начал продавать по льготным ценам излишки муки, имевшейся на станичной мельнице, семьям, имеющим 6 чел. и более, а беднейшим семьям мука была выдана бесплатно. В центре станицы открывалась продуктовая лавка, где имели право получать продукты служащие станичных заводов [59]. Несмотря на огромные трудности, интенсивно разворачивалась культурно-просветительная работа, которая стала одним из ключевых звеньев работы среди населения с целью утверждению основных идей советской власти. В июне 1920 г. на собрании северских школьных работников (слово учитель не употреблялось до 1930-х гг.) была избрана культурно-просветительная комиссия из 6 чел. В её состав вошли заведующий школой П.А. Кузьмин; школьные работники Т.В. Самойленко, М.Г. Златоустовская, учитель пения, псаломщик А.Н. Гречишкин, псаломщик Н.Г. Аманатов, фельдшер В.Ю. Головченко. Вскоре Т.В. Самойленко был назначен заведующим Отделом народного образования и вместо него в комиссию был включен школьный работник А.З. Леонтьев. Для заведывания музыкальной секцией в состав комиссии был избран школьный работник В.Г. Стефаниди. Председателем комиссии была назначена Мария Григорьевна Златоустовская; заведующим вокальной секцией стал А.Н. Гречишкин, театральной – В.Ю. Головченко, организацию работы литературной секции взяла на себя М.Г. Златоустовская [60]. Первым мероприятием, которое организовала культурно просветительная комиссия, стала постановка концертов-митингов при активном участии военного комиссара А.А. Юрина и других ответственных работников. Они проводились не только в Северской, но и в Ильской, Убинской, Дербентской. Затем были поставлены спектакли, в том числе и на малороссийском наречии: пьеса Т.Г. Шевченко «Назар Стодоля» и др. Литературной секцией были подготовлена и прочитана лекция на тему «Взгляды Т.Г. Шевченко на народную жизнь». Однако вследствие отсутствия тесного контакта с ревкомом лекцию посетили лишь школьные работники и учащиеся школ. Жители станицы не смогли её прослушать, так как в это время ревком проводил митинг. Для дальнейшей работы комиссии её 38 председатель М.Г. Златоустовская просила обеспечить её членов литературой, музыкальными инструментами и обувью [61]. Культурно-просветительная комиссия организовала при станичном клубе буфет, где давали бесплатный ужин всем, кто участвовал в постановке спектакля или организовывал творческие вечера. По инициативе комиссии были поставлены спектакли в пользу станичного Детского дома [62]. В распоряжение культурно-просветительной комиссии станичным ревкомом был передан клуб, рояль, который ранее находился в доме одного из станичных учителей В.К. Гапочки. Театральную секцию было решено не привлекать к различного рода обязательным работам. Заведующему клубом была определена заработная плата, которая начислялась из сумм, полученных за проведение спектаклей и вечеров [63]. Между тем обстановка на Кубани продолжала оставаться тревожной, возрастала опасность вторжения Белой армии со стороны Крыма, где ей удалось закрепиться. Войска генерала П.Н. Врангеля надеялись на поддержку кубанского казачества. 14 августа 1920 г. на побережья Азовского и Черного морей был высажен десант Белой армии под командованием генерал-лейтенанта С.Г. Улагая, которому удалось захватить плацдарм в районе Приморско-Ахтарска, но развить успех не удалось [64]. Тем не менее были предприняты дополнительные меры по усилению охраны станицы. Ревком принял решение о переводе милиции в центр станицы из здания, которое располагалось на самой окраине. Для этого в августе 1920 г., был реквизирован церковный дом священника Царевского, который располагался рядом с Ревкомом [65]. Однако сил одной милиции для охраны станицы от нападений отрядов бело-зеленых и просто бандитов было недостаточно и 8 августа 1920 г. на митинге жителей станицы было принято решение о формировании роты для охраны станицы в количестве 200 чел. [66]. Таким образом, летом 1920 г станичные власти продолжали работу по восстановлению станичного хозяйства и укреплению авторитета власти среди населения. При этом продолжалась братоубийственная Гражданская война, которая значительно влияла на ход и направленность этой деятельности, а также на характер социально-экономических процессов в станичном обществе. Библиографические ссылки 1. ГАКК. Ф. 382. Оп. 1. Д. 91. Л. 190. 2. Там же. Л. 50. 3. Там же. Л. 93. 4. Там же. Л. 52. 5. Там же. Л. 93. 6. Там же. Л. 97. 39 7. Там же. Л. 50. 8. Там же. Л. 88. 9. Там же. Л. 88. 10. Там же. Л. 88. 11. Там же. Л. 90. 12. Там же. Л. 91. 13. Там же. Л. 50. 14. Там же. Л. 64. 15. Там же. Л. 88. 16. Там же. Л. 31, 33. 17. Там же. Л. 33. 18. Там же. Л. 73. 19. Там же. Л. 10–12, 96. 20. Там же. Л. 96. 21. Там же. Л. 41. 22. Там же. Л. 50. 23. Там же. Л. 65. 24. Там же. Л. 90. 25. Там же. Л. 31, 33, 70. 26. Там же. Л. 35. 27. Там же. Л. 74. 28. Там же. Л. 88, 90. 29. Там же. Л. 91. 30. Там же. Л. 109. 31. Там же. Л. 31, 33–34. 32. Там же. Л. 61. 33. Там же. Л. 32. 34. Там же. Л. 88. 35. Там же. Л. 33. 36. Там же. Л. 33, 99. 37. Там же. Л. 109. 38. Там же. Л. 91. 39. Там же. Л. 33, 99. 40. Там же. Л. 61. 41. Там же. Л. 61. 42. Там же. Л. 33–34. 43. Там же. Л. 92. 44. Там же. Л. 72. 45. Там же. Л. 91. 46. Там же. Л. 94. 47. Там же. Л. 88. 48. Там же. Л. 33, 69. 49. Там же. Л. 91. 50. Там же. Л. 61. 51. Там же. Л. 88. 52. Там же. Л. 34. 53. Там же. Л. 91. 54. Там же. Л. 97–99. 55. Там же. Л. 99. 56. Там же. Л. 107. 57. Там же. Л. 91. 58. Там же. Л. 107. 59. Там же. Л. 107. 60. Там же. Л. 48. 40 61. Там же. Л. 48. 62. Там же. Л. 48. 63. Там же. Л. 91. 64. Военный энциклопедический словарь. М., 2007. С. 932. 65. ГАКК. Ф. 382. Оп. 1. Д. 91. Л. 107. 66. Там же. Л. 108. 41